|
Национальный
вопрос, вряд ли разрешимый одинаковым для всех народов способом,
в условиях революции и гражданской войны и красными, и белыми,
и самими национальными элитами сводился к вопросу о типе
государственного устройства.
Все программы национальных движений предполагали определение
государственного статуса своих этносов. Именно стремление
к легитимизации автономий — территориальных и культурно-национальных,
региональных — составляло суть конфликта местных организаций
и партий с центральной властью — и во многом определяло
смысл и содержание межэтнических отношений.
Необходимо также иметь в виду, что идеи самоопределения
в массовом сознании народов России вряд ли получили ясное
толкование. Властные структуры региональных и национально-территориальных
автономий всего лишь стремились к упрочению собственной
власти на автохтонной территории и крайне неохотно принимали
участие в междоусобной борьбе «центральных» властей.
Национальные движения при этом отнюдь не были едины и, несмотря
на малочисленность, распадались на неустойчивые партийно-политические
структуры. Они так и не стали самостоятельной политической
силой.
Проблема осложнялась к тому же неустойчивым, дисперсным
состоянием самого центра, представленного в условиях гражданской
войны, с одной стороны, большевиками и руководимыми ими
советами, а с другой стороны, противостоявшими им многочисленными
партийно-государственными образованиями.
Как известно,
в дооктябрьский период большевики призывали к созданию унитарного
демократического централизованного государства с широкой
областной автономией. Вплоть до середины 1917 г. они были
противниками федерализации. Но прагматизм и условность политической
тактики большевиков предопределили их действия — и успех
в борьбе за массы.
В 1917—1918 гг. большевики признали целесообразность федеративного
устройства Российской советской республики. «Декларация
прав народов России» провозгласила право наций на самоопределение,
что имело чрезвычайно важное значение для укрепления новой
власти на окраинах страны.
III Всероссийский съезд советов, работавший в январе 1918
г., принял «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого
народа». В ней впервые в законодательном акте было дано
определение формы правления в стране: «Советская российская
республика учреждается на основе свободного союза свободных
наций, как федерация советских национальных республик».
В общих чертах структура государственной власти, взаимоотношения
между ее центральными и местными органами были определены
в постановлении Съезда «О федеральных учреждениях Российской
республики»7.
Конституция РСФСР, принятая 10 июля 1918 г. V Всероссийским
съездом советов, закрепила федеративное устройство страны
по национально-территориальному принципу. Предусматривалось
также создание областных союзов, состоящих из нескольких
национальных областей. Хотя специальной статьи о праве выхода
из федерации не было, в пункте д статьи 49 говорилось, что
к ведению Съезда советов и ВЦИК относится «признание выхода
из Российской Федерации отдельных частей ее».
Конституция РСФСР не определяла национально-государственный
состав республики, ибо многие народы только приступили к
созданию своей государственности. Не устанавливались и различия
между автономной частью РСФСР и суверенной республикой,
т.е. РСФСР на этом этапе сочетала в себе черты союзного
государства и федерации на базе автономии.
Вторая программа РКП(б) в 1919 г. закрепила признание федерации
как типа советского государства. Непосредственными задачами
национальной политики был призван заниматься специально
созданный Наркомат по делам национальностей — во главе с
И.В.Сталиным8.
Декретирование нового типа государства не означало, что
партия большевиков имела точные теоретические представления
и политические рецепты воплощения в жизнь своих заявлений.
Тем не менее безусловно привлекательный лозунг права наций
на самоопределение вплоть до образования самостоятельного
государства обладал огромной мобилизующей силой и расширял
социальную базу советской власти.
В ходе войны шел поиск форм и методов советского национально-государственного
строительства. Образовывались независимые и автономные советские
республики, а также автономные области. Как правило, они
создавались не путем заключения договора субъекта федерации
с центром, а путем декретирования нового образования сверху
— после включения лояльной части местной этнополитической
элиты в состав советских органов власти данного субъекта.
Одновременно апробировались государственно-правовые формы
союза.
Конкретные контуры советской федерации определялись противоречивой
практикой взаимоотношений возникших на пространствах бывшей
империи автономий и большевистского центра. Эти отношения
имели авторитарную природу, впрочем, как и отношения белых
с националистами. Приоритет социальных интересов в ходе
гражданской войны был налицо. Не удивительно поэтому, что
принципиально важным для большевиков было признание национальными
движениями и автономистскими правительствами советской власти;
это служило условием сохранения национальных структур и
их представительства в советских органах управления в центре
и на местах9.
Немало коллизий во взаимоотношениях советского центра и
национальных движений вызывалось неопределенностью, организационной
пестротой и неясностью принципов соподчинения, многочисленностью
рождавшихся по инициативе как сверху, так и снизу органов,
участвовавших в решении национальных проблем. Это была система
советов, в том числе национальных, дополнявшаяся созданными
в рамках Наркомата по делам национальностей и под его опекой
отделами и комиссариатами. Количество их постоянно умножалось,
к тому же аналогичные органы создавались и в других правительственных
учреждениях и ведомствах. Все они переживали перманентные
реорганизации, осложнявшиеся переменчивыми военными обстоятельствами.
Реализация автономистских и иных проектов в результате становилась
весьма проблематичной, даже если предложения центра принимались
практически полностью.
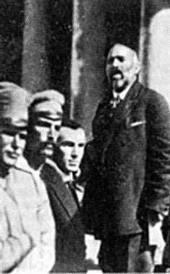 Менявшаяся
военная обстановка влияла и на развитие взглядов государственных
и партийных руководителей. Первые национальные автономии
и республики создавались во многом для удержания территорий.
Независимо от того, возникали они стихийно или по инициативе
большевиков, последние надеялись реализовать в них классово-интернационалистскую
доктрину. Менявшаяся
военная обстановка влияла и на развитие взглядов государственных
и партийных руководителей. Первые национальные автономии
и республики создавались во многом для удержания территорий.
Независимо от того, возникали они стихийно или по инициативе
большевиков, последние надеялись реализовать в них классово-интернационалистскую
доктрину.
Однако на деле всё обстояло гораздо сложнее. В процесс самоопределения
вовлекались народы с очень разными социально-экономическими
и культурными возможностями. Недовольство народов России
реальным состоянием дел использовалось каждой политической
силой в интересах борьбы за власть и ресурсы, но практически
все автономии пытались по собственному усмотрению провести
революционные преобразования.
К примеру, в январе 1918 г. Всероссийский чувашский военный
съезд, не сумев решить вопрос о Средневолжских и Южноуральских
штатах как средстве национально-государственной консолидации
чувашей, создал Центральный чувашский военный совет, вскоре
распавшийся. Вслед за этим, в феврале 1918 г., Чувашская
национально-социалистическая партия устроила автономию в
рамках федерации народов Поволжья, а в советах начался поиск
средств обеспечения национального представительства. Возникли
Центральный чувашский совет, Комиссариат по чувашским делам,
Чувашский отдел при Наркомнаце, затем Чувашский левый социалистический
комитет и Комиссариат по чувашским делам при Совнаркоме
Казанской республики. Все они вряд ли имели реальную политическую
власть. А после включения чувашских территорий в состав
проектировавшейся по инициативе Москвы Татаро-Башкирской
республики национальные социалисты укрепились в своем недоверии
большевикам.
Их организации, по преимуществу эсеровского толка, после
недолгого сотрудничества с местными советами и комиссариатами
по чувашским делам разного уровня прекратили существование
в 1918 г. Более правые нашли поддержку в Комуче и связали
судьбу национального вопроса и свою политическую жизнь с
противниками большевизма10.
Аналогично развивалась ситуация и в других национальных
регионах России. Так, с осени 1917 до весны 1918 г. большевикам
удалось овладеть органами власти и усилить свое влияние
в национальном движении мари. Особую роль в установлении
контроля над территорией этого народа сыграло внесение сторонниками
большевиков в феврале 1918 г. на Национальном съезде мари
радикальной программы, предусматривавшей создание Комиссариата
мари при Казанском губсовете и отдела мари в Наркомнаце.
4 ноября 1920 г. был принят декрет ВЦИК и СНК РСФСР об образовании
Марийской автономной области в составе РСФСР, завершивший
процесс огосударствления народа мари в советском варианте
самоопределения наций11.
Стихийно
развернувшийся бум федерализации распавшейся империи порождал
немало противоречий и вызывал у самих большевиков опасения
за перспективы единства страны. Член коллегии Наркомата
внутренних дел М.Лацис в феврале 1918 г. писал: «При явно
наметившейся тенденции использовать наш программный пункт
о самоопределении национальностей в центробежном направлении,
вплоть до отделения их от России, предоставление этого права
неразвитым народностям, без сильного или при совершенном
отсутствии пролетарского элемента более чем опасно»12.
Важно обратить внимание на опыт образования советских автономий
сверху, реализованный в ходе гражданской войны. В попытке
создания первой советской национальной автономии в начале
1918 г. — Татаро-Башкирской — центр в целом и И.В.Сталин
как нарком по делам национальностей видели прежде всего
рычаг для укрепления власти13. Если для Сталина федерализм
служил переходной ступенью к будущему социалистическому
унитаризму14, а создание упомянутой автономии (как и затем,
в 1919 г., Башкирской) служило одним из приемов отражения
натиска белых армий и лишения их социальной поддержки, то
Ленин проявил больший политический такт и дальновидность,
бульшую расположенность к компромиссам. Об этом свидетельствуют
его встречи с различными национальными лидерами, выступления
по национальным вопросам, в том числе на VIII съезде партии
большевиков15.
Советские
автономии рассматривались лидерами большевизма не только
как тактический прием в борьбе за сохранение власти. Автономные
органы и их представительства в центральных органах власти
были средством проведения большевистской политики на местах.
В то же время «националы» пытались довести до центра свои
идеи и проекты, акцентировать его внимание на конкретной
этнической специфике мест.
Это взаимовлияние развивалось достаточно сложно и противоречиво.
Так, младобухарцы, видимо, остро чувствовали неестественность
смычки с марксизмом, не могли принять упрощенный подход
большевиков к социальным явлениям на Востоке. Сотрудничество
с Лениным и его партией мнилось средством достижения независимости
наций и государств. В попытках соединить ислам и марксизм
можно видеть и стремление продемонстрировать неоригинальность
последнего, его переходный характер. Этнические элиты, зараженные
левыми идеями, надеялись трансформировать коммунистическую
модель преобразований в соответствии с собственными представлениями
о путях модернизации.
Национально-религиозные чувства и политические настроения
горцев Северного Кавказа отразились в клятве аскера Народной
армии Совета обороны, руководившего антиденикинским восстанием.
Данная на Коране, она говорила о защите «шариата, свободы
и независимости народов Северного Кавказа»16.
Сотрудничая с большевиками, Социалистическая группа во главе
с М.Дадахаевым и Д.Коркмасовым в ходе гражданской войны
отстаивала необходимость обязательного учета специфики этнокультуры.
Мусульманские социалисты, воспринимая союз с последователями
Ленина как необходимость, никогда не забывали об укорененности
в сознании горцев ислама и его нравственных и правовых начал17.
Показательно, что современные авторы, анализирующие взаимоотношения
властных структур и народов Северного Кавказа сразу после
окончания гражданской войны, приходят к выводу, что идею
советов, созданных на классовой основе, «внедрить в горское
сознание» так и не удалось, а механизм «национального сдерживания»
путем перманентных административно-территориальных преобразований
не был создан — как не реализовалась в регионе и новая экономическая
политика18.
Лидеры этнических движений стремились, считаясь с объективными
условиями и примыкая к побеждающей стороне, вырвать у руководителей
новой России уступки. В то же время сами большевики не без
труда добивались раскола в политическом руководстве национальных
движений и выделения из них леворадикальных направлений.
Вполне убедительным примером служит судьба Киргизской социалистической
партии (Уш жуз) в Казахстане. Это искусственное политическое
образование просуществовало недолго и, несмотря на заявления
о защите советской власти, усилия местных большевистских
организаций придать ему классовый облик оказались безрезультатными19.
Склонить на свою сторону несопоставимо более авторитетное
и организованное движение казахских автономистов Алаш, поначалу
не признавшее Октябрьский переворот, хотя и ведшее переговоры
с СНК об условиях автономии весной 1918 г., большевикам
удалось не сразу. Да и после образования казахской советской
автономии в 1920 г. взаимоотношения бывших «буржуазных»
националистов с коммунистами были далеко не простыми.
Страница
1I2I3I4I5I6I
***
|