|
В борьбе украинских националистов
за самостоятельность проявилась их слабость, обернувшаяся
уступками иностранному давлению и потерей настоящей свободы.
Оказалось трудным завоевать и доверие украинского крестьянства,
которое добивалось самоуправления и решения земельного вопроса
— и потому, в конечном счете, повернулось к советам.
Национально-освободительное движение украинского крестьянства
в годы гражданской войны, как и повсеместно, было социально
ориентировано, а оккупационные режимы и общая атмосфера
деградации и насилия вызывали резкое обострение межнациональных
конфликтов, настоящие взрывы национал-социализма, как считает
специально занимавшийся этим вопросом А.Грациози30.
Советское правительство к февралю 1920 г. добилось установления
своей власти в главных центрах Украины. Контроль над выборными
органами не мог быть обеспечен включением в них националистов.
К тому же массами власть воспринималась как городская и
уже потому этнически чуждая. Решающую же роль играли фактор
военного превосходства и способность социально-экономическими
реформами добиться поддержки населения.
В борьбе
за власть большевики часто шли на создание национальных
республик, особенно в районах боевых действий. Так было
с уже упоминавшимся проектом Татаро-Башкирской автономии,
с Горской республикой. На искусственность, нежизнеспособность
таких объединений пытались не обращать внимания, добиваясь
подавления национализма, опасного для централизованной власти.
Советизация ранее образованных, а также провозглашение новых
автономий и формальное признание самостоятельности договорных,
а затем союзных республик определялись и расчетом на мировую
революцию. В докладной записке Центрального бюро коммунистических
организаций народов Востока в Президиум ВЦИК 1 октября 1919
г. говорилось: «Туркестан при настоящих условиях международного
политического положения является преддверием социальной
революции на Востоке. Через него и только через него мы
можем установить связь с Ближним Востоком — Афганистаном,
Индией, Персией и т.д. и революционизировать их, подготавливая
в них восстание против международного империализма»31.
Сходное отношение проявилось и к созданию советских республик
в Белоруссии и Литве. Схема была довольно простой: создавалось
советское правительство и объявлялись советские независимые
республики, хотя говорить о развитом национальном движении
и сознании в Белоруссии можно было только с большой натяжкой.
Не упускался из виду и международный аспект проблемы. Уполномоченный
ЦК РКП(б) А.А.Иоффе заявил 22 января 1919 г. на заседании
Центрального бюро Коммунистической партии (большевиков)
Белоруссии, что создание Белорусской и Литовской республик
обусловлено «желанием ... избежать непосредственного воздействия
империализма на Россию», «создать между ним и нами ряд республик-буферов»32.
В ходе военных действий 1919—1920 гг. в Белоруссии восторжествовала
большевистская власть; в декабре 1920 г. определились формы
государственности новой республики, дорабатывавшиеся после
принятия Конституции (февраль 1919 г.). Однако сущность
«советского федерализма» и механизмы его осуществления оставались
непонятными самим большевикам.
Хорошо известно, что во вторую программу партии на VIII
съезде РКП(б) вошла формулировка Н.И.Бухарина, поддержанная
и И.В.Сталиным, о самоопределении трудящихся классов каждой
нации.
Только в решениях VIII Всероссийской конференции РКП(б)
в декабре 1919 г. было сказано о праве наций на самоопределение.
Ленин доказывал своим товарищам, что образование национальных
государств не противоречит принципу федерализации страны
и способствует организации местного самоуправления. При
этом все коммунисты единодушно признавали приоритет классовых
интересов над национальными и верили в мировую революцию.
Своеобразным федеративным договором между суверенными республиками
стал декрет ВЦИК от 1 июня 1919 г., обеспечивший их сотрудничество
в области экономики и культуры, координацию внешнеполитической
деятельности. На федеративной основе строились союзнические
отношения РСФСР и УССР в 1918—1922 гг.
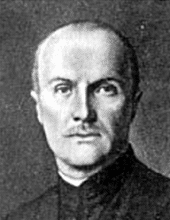 К
концу гражданской войны в составе РСФСР были образованы
Башкирская, Татарская, Киргизская (с 1925 г. Казахская)
советские автономные республики, а также Чувашская и Калмыцкая
автономные области, Дагестанская и Горская республики. К
концу гражданской войны в составе РСФСР были образованы
Башкирская, Татарская, Киргизская (с 1925 г. Казахская)
советские автономные республики, а также Чувашская и Калмыцкая
автономные области, Дагестанская и Горская республики.
В том же, 1920-м, году упрочились просоветские режимы в
Хорезме и Бухаре, с которыми РСФСР заключила договоры. Процесс
установления большевистской власти военно-политическими
средствами в этих регионах, а также в Закавказье и других
местах рассматривается в ряде публикаций33.
Лидеры национальных движений левого толка не оставляли надежды
на взаимопонимание с центром. Так, в письме Ф.Махарадзе
Ленину от 6 декабря 1921 г. говорилось, что «вступление
в пределы Грузии красных войск и провозглашение советской
власти приняло характер внешнего завоевания, ибо внутри
страны в этот момент никто и не думал о поднятии восстания»,
а за организацию «власти советов» взялись сомнительные и
преступные элементы. Не учитывался и «тот факт, что за последние
три-четыре года, — призывал признать автор, — массы в Грузии
как-то свыклись с идеей независимости и самостоятельности
Грузинского государства, хотя она была эфемерна и фиктивна».
Понятно, что не считаться с этим было нельзя. Махарадзе
призывал осторожно «подходить к массам», не давать повода
для разжигания национализма, делать уступки национальной
интеллигенции34.
Можно утверждать, что, несмотря на все противоречия в национальной
политике большевиков, предложенный ими вариант (осуществление
принципа самоопределения и образование автономий) соответствовал
объективным задачам модернизации многочисленных этносов
бывшей империи. Это сыграло важную роль в расширении социальной
опоры советской власти и в победе красных в гражданской
войне.
Однако об
этнической государственности думали не только большевики,
но и их противники. Антибольшевистские правительства и вооруженные
силы создавались и действовали преимущественно на окраинах,
населенных так называемыми инородцами, и национальная политика
для белых изначально была весьма важным фактором в обеспечении
социальной, материальной, финансовой поддержки армий.
К августу 1918 г. насчитывалось до 20 «центральных» и областных
антибольшевистских правительств: Комуч в Самаре, Временное
сибирское правительство в Омске, Уральское областное в Екатеринбурге,
Амурское в Благовещенске, Деловой кабинет Дальнего Востока
в Харбине, казачьи — Кубанская краевая Рада, Уральское,
Оренбургское. Существовали республики и автономии украинцев,
закавказских народов, башкир, казахов, туркестанцев и др.
Представления лидеров таких правительств о форме государственного
устройства России, о принципах взаимоотношений центра и
провинции, о степени самостоятельности национальных, территориальных
и культурных автономий были весьма различны. Сложное соотношение
сепаратизма, автономизма, регионализма и великодержавия
составило одну из важнейших характеристик событий 1918—1920
гг. Разнообразные концепции федерализма и унитаризма испытывались
на практике в чрезвычайных обстоятельствах.
Пожалуй, наиболее последовательно демократических принципов
национальной политики придерживался самарский Комуч, правительство
которого составили эсеры (лишь ведомство труда возглавил,
как известно, меньшевик И.М.Майский). В Агиткультпросветотделе
Комуча был создан Инородческий отдел. Он должен был регулировать
отношения между национальностями, привлекать нерусское население
в ряды Народной армии, содействовать укреплению власти Комуча
«в нерусской части населения», рассматривать ее ходатайства,
собирать материалы с мест и предоставлять их в Комитет.
Комуч стремился к союзу с национальными движениями и организациями
на основе признания идеи демократического федерализма. При
этом, признавая, что окончательно решать вопрос о будущем
государственном устройстве России полномочно только Учредительное
собрание, Комуч заявлял своей целью «возрождение государственного
единства России». Поэтому он отказывался признавать суверенные
права за любым правительством, «откалывающимся от государственного
тела России и провозглашающим свою независимость самостийно»35.
Тем не менее, проводя переговоры с автономистами, Комуч
временно признал все организовавшиеся к августу 1918 г.
небольшевистские правительства. Это касалось казахской и
башкирской автономий, правительств Оренбургского и Уральского
казачьих войск, получивших право формировать собственные
вооруженные силы36. Это объяснялось стремлением привлечь
на свою сторону союзников в условиях всё обострявшегося
соперничества в борьбе за право представлять всероссийскую
власть, на что претендовали не только наследники Всероссийского
учредительного собрания, но и другие антибольшевистские
правительства, прежде всего Временное сибирское.
В сентябре 1918 г., когда вопрос об объединении белых на
востоке страны был в центре внимания собравшихся на совещание
в Уфе, Комуч в своей декларации по поводу образования казахского
автономного правительства (Алаш-Орда) заявил, что «для воссоздания
единой, сильной свободной России и укрепления в ней федеративно-демократического
строя необходимо участие в предстоящей созидательной работе
всех населяющих ее народностей», а потому «осуществление
отдельными территориями и национальностями своих автономных
прав является лучшим залогом успеха предстоящей героической
работы по воссозданию единой великой России»37.
Были определены сферы влияния и прерогативы субъектов федерации:
за центром предлагалось оставить военные и иностранные дела,
пути сообщения, почту и телеграф, «мероприятия общегосударственного
характера по вопросам снабжения и продовольствия», утверждение
временного положения об управлении автономией, согласование
вопросов о формировании автономных вооруженных сил. Постановления,
законы и распоряжения автономной власти не должны были противоречить
законодательству центра, который имел своих уполномоченных,
обладавших правом приостанавливать действия автономистских
правительств. Спорные территориальные вопросы предлагалось
решать совместно с органами власти прилегающих областей
«и в соответствии с волеизъявлением местного населения,
выраженного путем всенародного голосования или через местное
самоуправление»38.
Стремясь «последовать примеру большевиков и развить агитацию
до максимальной возможности», Комуч наладил выпуск газет,
листовок и брошюр на языках народов Поволжья, создавал на
местах отделения Инородческого отдела, пытался организовать
на подвластных территориях местное самоуправление, проводил
курсы, лекции, митинги, тематические «дни» и т.п.39
Не отказывались сторонники Учредительного собрания и от
планов предоставления отдельным народностям страны национально-культурной
автономии. Гибкость в решении национального вопроса демонстрировал,
например, родившийся в Самаре проект, согласно которому
дисперсно расселенные «мусульмане тюрко-татар внутренней
России и Сибири ... образуют добровольный личный союз-нацию,
обладающий в отношении своих членов принудительной властью»
и выступающий как национальная единица, юридически равноправная
«со всеми нациями, образующими в своей совокупности государство
Российское»40.
Однако председатель башкирского правительства З.Валидов,
представители самого Комуча и Сибирское правительство усмотрели
в этом опасность для целостности России и тенденцию к мусульманскому
сепаратизму. Вообще полной ясности и определенности в отношениях
с разнообразными национальными структурами Комуч в своей
политике не достиг. Так, казахская автономия признавала
единство российских границ, и в отдельных обращениях Комуча
она выступала в качестве субъекта федерации. Был в то же
время заключен военно-политический союз, более того, всеми
вопросами взаимоотношений с этим государственным образованием
занимались не органы внутренней власти, а ведомство иностранных
дел41.
Страница
1I2I3I4I5I6I
***
|